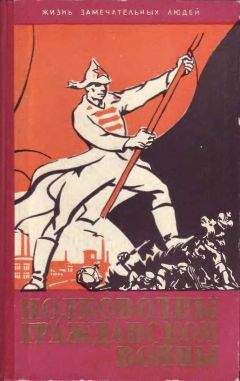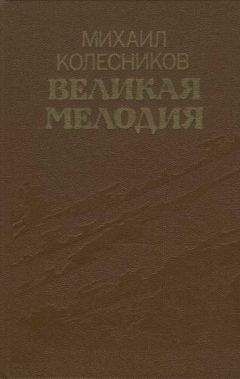Лев Гумилевский - Собачий переулок[Детективные романы и повесть]
— Да нет, впрочем, нет, все решено. Я сказал: решено и подписано. Иначе разве можно? Нет!
— Если ты даже вынешь револьвер, так я не поверю тебе! — резко крикнула она на него. — Ты никого не убьешь, ни себя, ни меня! Слышишь? Да уйди же, наконец!
Она отвернулась снова к окну. Вечерние тени ползли по улице, с тротуаров слышались усталые детские голоса, и звенел внизу из открытого окна голос:
— Ванюшка, иди домой!
Высокие тополя в палисаднике перед домом, поднимавшиеся выше крыш, точили с клейкой листвы волнующий аромат свежей зелени. Невидные извозчичьи дрожки прогромыхали по каменной мостовой.
Вера схватилась за окно. Она мгновениями забывалась, как в обмороке, и, пробуждаясь, шептала почти про себя:
— И никогда мне так жить не хотелось, как этой несчастною весной! Не потому ли?
Хорохорин не смотрел на нее. Револьвер лежал в кармане с такой же отчетливостью, как твердое в голове решение, и все-таки в словах Веры, в злом крике «ни себя, ни меня» было больше правды, чем в том и другом.
Он встал через силу и с тоскою взглянул на дверь.
«Зачем я пришел?» — подумал он и оглянулся на Веру как вор.
Она поймала этот его взгляд. Он снова сел
— Уйди же, наконец! — почти простонала она
— Слушай, Вера!
— Я не буду тебя слушать!
— Разве мы одни
— Замолчи! Не делайся еще гнуснее, чем ты есть!
— Так что же, по-твоему, делать?
— Убей себя, убей себя! — исступленно закричала она. — Зачем ты живешь?
Ее слова и больше слов страшный взгляд поразили его.
— Подумай о себе! — тихо сказал он.
— Это ты о чем? — со злостью перебила она его.
Он, не отвечая ей ни слова, прошел к столу, сел в кресло, потянул к себе перо и чернильницу, вырвал из лежавшей на столе тетради листок и написал на нем «Так жить нельзя!»
Он смотрел на написанное, точно гипнотизируя себя
— Это уже я слышала! — пожала плечами Вера, заглядывая в листок. — Еще что?
Он посмотрел на нее с усмешкой, потом дописал дальше: «Лучше умереть» — и внизу поставил четко подпись.
— Это уже поновее, — заметила Вера, — что еще?
— Ничего!
С жалкой усмешкой, вызвавшей у Веры какое-то странное отвращение к нему, Хорохорин вынул револьвер и посмотрел на него, на Веру.
— Восемнадцатилетним мальчишкой на Чеку работал, — потряс он оружием, теперь холодной и бессильной тяжестью болтавшимся в его руке, — а теперь вот… На такую дрянь, как я, рука не поднимается!
Вера вспыхнула, отвращение и гнев душили ее.
— Хорохорин, уйди отсюда сейчас же!
Он увидел ее дрожащие от ненависти и презрения глаза. В один миг, который потребовал столько времени, чтобы поднять с угрозой на нее револьвер, он вспомнил все: первую встречу, цветистый халат, голые колени и потом черную пропасть унижений, безволия, бессилия и страсти, которую он сам в себе ненавидел. Он крикнул:
— Сначала тебя!
— Уйди! — Она подняла руку, чтобы отстранить его или ударить. Он отшатнулся, и в этот же миг оглушительный гром выстрела ошеломил его.
Он видел, как Вера, закусив губы, чтобы не застонать, схватилась рукою за грудь. Сквозь плотно прижатые пальцы ее брызнула кровь. Она упала. Хорохорин смотрел на нее, не понимая: он поразился той простотою, с которой все это случилось.
Должно быть, пуля попала в сердце: судорожно вздрагивая, не отнимая руки от груди, Вера корчилась на полу, как будто пытаясь встать. Темные струйки крови, быстро расползавшиеся из-под прижатых пальцев по желтому полу, сливались в сплошное пятно. Хорохорин отодвинулся к двери.
Он не мог оторвать глаз от этого пятна. Оно росло, залитая кровью рука неожиданно сползла с груди и легла на пол. Тогда он увидел, как все тело девушки вдруг приобрело неестественные, мертвые очертания: откинулась голова и высунулся вперед подбородок. Короткий халат плотнее лег на ноги.
Хорохорин вздрогнул.
За дверью кто-то громко, взволнованно постучал.
Он обернулся к двери и запер ее, оттуда послышалось.
— Что такое у вас?
Он хотел крикнуть «сейчас!», но крика не вышло. В дверь же стучали с большей настойчивостью.
— Откройте! Что такое?
Он до крови закусил себе губы. Тогда, сам удивляясь своему спокойствию, он ответил:
— Ничего, ничего! Сейчас открою…
Он заглянул в окно, метнулся назад к двери, и, чувствуя себя пойманным этими стенами, этими настойчивыми людьми, потрясавшими кулаками дверь, всем этим днем, всей жизнью, он зажмурил глаза, сжал револьвер и, обернув его к себе, спустил курок.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. КОНЦЫ И НАЧАЛА
Глава 1. ЧЕСТЬ КОМСОМОЛА
Если бы оправдались самые худшие опасения заведующего клубом и провалились не только полы в гимнастическом зале, но обрушились бы и самые стены, то и тогда не было бы такого волнения, подавленности, растерянности и суеты, какими был налит наш клуб в тот достопамятный вечер, когда разнеслась весть о происшедшем у Веры Волковой.
Все очередные занятия прекратились. Самые жгучие интересы потеряли остроту и притягательность. Самые постоянные привычки были нарушены. Спортсмены бродили с опущенными головами, с висевшими как плети мускулистыми руками. Шахматные доски не раскрывались. В буфете было тихо, как в покойницкой. В читальной газеты лежали неразвернутыми.
У окна, окруженная горсткой подруг, плакала тихо Зоя Она не могла уже связно рассказывать, но только всплескивала руками, давила тонкими пальцами на горячие виски и повторяла:
— Да зачем же я ушла! Не надо было мне уходить! Я бы осталась у нее, и ничего бы не было!
Бродившие по клубу, прибывавшие из университетских зданий останавливались возле нее, шли дальше, прислушиваясь и приглядываясь. В гимнастическом зале сам по себе возникал горячий митинг в возбужденном, взволнованном кольце, плотно обступавшем Королева.
Там спор становился с каждой минутой все горячее и ожесточеннее. Все отходившие от Зои постепенно пополняли плотное кольцо вокруг споривших.
Зоя прошла туда же, но боль в висках и невралгический холод на сердце мешали ей понять, о чем говорили.
Она протолкалась к Сене, сказала:
— Я уеду, Семен. Я не могу больше.
Сеня вышел ее проводить до выхода.
— Я не знаю, — твердила Зоя, — не знаю, что будет с Варей. Как ей сказать?
Сеня потер лоб с раздражением: с каждым часом, чем дальше, тем больше усложнялась драма, и казалось, уже не остается ни сил человеческих, ни слов для того, чтобы все это распутать, упростить и заключить в действие.
— Там уже знают все, вероятно. Тебе ничего не придется говорить, разве только успокоить немного…
— Никто не знает этой девочки! — вздрогнула Зоя. — Никто не знает…
— Ну, не повесится же она!
— Нет, нет! Но может быть и то, что еще страшнее!
Сеня махнул только рукою. Он с сожалением проводил
Зою и долго смотрел ей вслед с крыльца клуба. Она прошла двором, улыбнулась ему издали, хотя не могла уже видеть его, и исчезла в сумраке взволнованной ночи.
Сеня вернулся в зал.
Боровков уже метался по клубным помещениям и кричал всюду:
— Где Королев? Где Королев?
Тихонький старичок, бывший одновременно и уборщиком, и швейцаром, и караульщиком, ласково откликнулся:
— В зале он!
Боровков ураганом ворвался туда и воткнулся в толпу
Королев сидел на турнике и говорил возбужденно:
— Товарищи, комсомол есть центр организации жизни современной молодежи! Если один из наших товарищей совершает гнуснейшее преступление, то, товарищи, тут затронута честь комсомола, честь всей молодежи…
Искусственно и очень громко расхохоталась Анна в ответ на эти слова. На нее оглянулись неодобрительно, она крикнула задорно:
— Протестую против мещанских выражений — честь комсомола! Может быть, ты договоришься до чести знамени, до чести дворянского сословия?! Глупо и бездарно, Королев!
Многие в тот момент растерялись. Послышались одобрительные смешки. Анну, готовую сразиться с Королевым, выдвинули вперед. Тогда Сеня вдруг встал и заговорил страстно — он в этот вечер положительно завладел большею частью нашей молодежи, обессиленной трагическими событиями.
— Да, — крикнул он в необычайном волнении, — если некоторые из нас этого не поняли, так я объяснюсь подробно! Да, мы должны воспитывать в себе то, что является классовой, партийной, комсомольской добродетелью! Да, раньше была честь знамени, честь полка, честь дворянского сословия — это и у нас должно быть! В этом классовая гордость, знак нашей принадлежности к классу! Может быть, некоторым из вас и покажется сначала это странным, но когда на войне говорят о чести полка или о чести знамени, так это очень полезная вещь! Это связывает силы, это их организует! Мы должны эту точку зрения проводить и в нашей ячейке, и во всей нашей организации, и в нашем классе, и в нашем советском государстве! Вот мы попали за границу, и там какой-то буржуй оскорбляет советскую власть… Ему надо набить морду в подходящей форме! А спустить нельзя — так или нет?